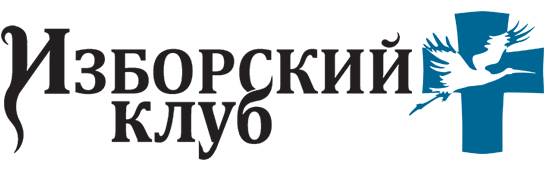Думали перестройка, но вышла переломка
Юрий Поляков
«Любовь в эпоху перемен». Знаменитый писатель Юрий Поляков специально назвал так свое новое произведение. С одной стороны — как это у него всегда бывает — "первым делом, первым делом" — чувства. Ну и потом ему, видимо, очень хотелось, чтобы читатель не пропустил и еще одного, может быть, самого главного героя творения – эпохи.
Командировка по тревожному письму
— Честно говоря, я начал писать о любви, а потом обнаружил, что на самом деле это о перестройке, — сразу же заинтересовал нас Юрий еще до того, как мы с ним встретились. — Кстати, это роман о журналистах. У меня был давнишний сюжет про человека, который случайно находит у себя на рабочем столе фотографию девушки, пытается сообразить, откуда она могла взяться и начинает вспоминать свой давний роман времен, когда он был молодым репортером. Я хотел написать рассказ о странностях любви, а когда стал работать, то пришлось описывать время, в котором происходят события. Вот он приехал в городок Тихославль по тревожному письму. Помните такую популярную рубрику в советских газетах?
— Да, да, сами прежде всего искали в «Комсомолке» такие статьи.
— Вот и мой герой-журналист отправился в такую командировку. Я отсчитал двадцать пять лет, именно столько девушке на снимке, и попал в 1988-й. Вдруг понял, что, оказывается, описываю самый разгар горбачевской перестройки. Но я же реалист, я же не постмодернист, который все придумывает, я должен реконструировать эпоху. Люди говорили об определенных вещах, у них были мечты, они бредили, допустим, Явлинским…
— Кудрявым, красивым!
— Разве? Я стал восстанавливать приметы времени — и увлекся. И в результате сначала из рассказа получилась повесть, а потом и целый роман. И теперь я даже не знаю, что главное – любовная история или художественная реконструкция перестройки, а главное, нашего тогдашнего перестроечного сознания.
— Ну, мы сейчас о любви и не будем говорить, потому что любовную интригу читатели найдут сами в романе и прекрасно с ней справятся… Давайте акцентировать внимание как раз на эпохе перемен. Здесь надо, наверное, кое в каких нюансах разобраться. Юрий Михайлович, с того времени, как мы все хотели перемен — помните знаменитую песню Виктора Цоя?- претерпели ли изменения ваши взгляды на эти желания и перемены?
— Мои взгляды претерпели очень сильное изменение. Потому что я был не только наблюдателем происходящего. И даже не пассивным участником тех событий перестроечных, я был одним из глашатаев перестройки. Потому что мои вещи – «ЧП районного масштаба» и «100 дней до приказа» — они были в ряду первых перестроечных книг…
— Мы ими зачитывались, мы передавали их из рук в руки. Это ходило, знаете, как знамя…
— А ведь они были написаны до перестройки. «100 дней до приказа» — моя первая повесть об армии – была написана в 1980 году, а вышла в 1987 году.
— Так это вы перестройку начали?
— Ну а кто ж еще? Конечно. Без меня не обошлось. «ЧП районного масштаба» я написал в 1981 году, а вышло оно в 1985-м, в журнале «Юность», редактором которого был Андрей Дементьев, смелый человек. Надо сказать, что «ЧП» вышло до перестройки – даже в энциклопедиях неправильно пишут. Эта вещь вышла в январском номере «Юности» в 1985 году, еще доживал последние недели бедный Черненко, и никому еще в голову не могло прийти, что через полгода грянут перемены. Говорят, Черненко поел скверного копченого леща. Жаль, не угостил Горбачева. Но это я сейчас так думаю, а в романе старался восстановить…
— …ваше тогдашнее отношение к переменам?
— Да, да. Сейчас, задним числом, говорят, что надо было все делать по-иному, это бесполезно. Мы делаем выводы, уже обладая нынешним опытом, а тогда мы были простодушны, как монастырские девственницы.
Думали, будет перестройка, но на деле вышла переломка.
А которая у нас сейчас эпоха?
— …Тогда нам все казалось прекрасным и радужным.
— Мы все были воспитаны в романтической парадигме линейного прогресса. Переведу на русский язык – нам казалось, что завтра не может быть хуже, чем сегодня, уже потому, что это — завтра. Выросло целое поколение, которое видело, как жизнь, может быть, не так быстро, как хотелось бы, но улучшается. Вот я, например, вырос в заводском общежитии маргаринового завода, в Балакиревском переулке, недалеко от Лефортово. И я очень хорошо помню, как в 60-е ходил в школу по этому переулку мимо одной-единственной личной машины «Победы». Я даже до сих пор помню фамилию владельца — Фомин… Еще где-то во дворе притулилась раскуроченная трофейная «Амфибия», которую привез кто-то из фронтовиков… Потом, когда я студентом туда приехал, в переулке уже было много машин. А когда я сам стал водить, там просто припарковаться стало негде. Но нам казалось: жизнь улучшается слишком медленно, а надо бы скачком, хлоп – и в изобилии. На этом нас и поймали…
— Вообще советские люди были заражены романтизацией революции, мы думали: повезло же тем, кто жил в эпоху перемен…
— Нам объясняли, что любое серьезное изменение государственной структуры – это обязательно падение уровня жизни, рост преступности, межэтнические конфликты… Нам не рассказывали на уроках истории, что гражданская война была на 30% социальным конфликтом, и на 70% — межнациональной резней. Страна-то многонациональная. И много еще чего не рассказывали. Когда затевали перестройку, народу никто не объяснил, что с началом реформ вы станете жить гораздо хуже. Ведь если бы нам в 1988 году сказали бы: в 1991-92 году пенсия будет 5 долларов, что будут закрываться заводы, многие останутся без работы, целые области станут депрессивными, шахтеры из самой высокооплачиваемой категории станут нищими… Перестройка закончилась бы на следующий день, а останки Горбачева так бы и не нашли….
— Может, и рассказывали, но мы же этого не воспринимали.
— Мы были убеждены, что надо обязательно все ломать. Плюс ко всему, мы настолько привыкли верить, что у нас в стране все делается по плану, что, когда появился Горбачев, никому в голову не пришло, что у него нет реального плана перемен. Андропов, очень неглупый человек, говорил, что мы не знаем страну, в которой живем. А надо бы знать! И когда уже начали преобразовывать строй, выяснилось, что он не совсем такой, каким его себе представляли.
— Юрий, вы все время перебрасываете параллели из одного времени в другое. А можем ли мы сказать, что сейчас тоже идет эпоха перемен? Что нас роднит с тем временем?
— Нас как раз с тем временем ничего не роднит. Тогда ломали так, что щепки летели. Нынче многие, в том числе и наша либеральная оппозиция, упрекают нынешнего президента и его команду в чрезмерной осторожности. У всех свои претензии. Одни возмущаются, почему, например, не отбирают незаконно приватизированные заводы, а другие требуют дополнительной приватизации того, что еще не перешло в частные руки. Все обвиняют власть в нерешительности. Но люди, которые сейчас находятся у власти, пережили ту самую перестройку и видели, как от поспешности просто рухнула страна. И я думаю, что нерешительность, которая уже идет во вред стране, связана именно с тем жесточайшим опытом конца 80-х – начала 90-х годов.
— А вы не считаете, что власть проявляет нерешительность?
— Почему? Я тоже так считаю. По многим позициям.
— В экономике, в политике, где?
— Везде, кроме Крыма. Когда было сказано, что нам нужно развивать реальную экономику, замещать импорт, уходить от зависимости продовольственной, медикаментозной, технологической и т.д.? Это было сказано еще 10 лет назад. И что, нельзя было построить всех?
— Построить всех или построить экономику?
— Построить всех, чтобы построили экономику. Нет, ждали санкций, когда за яблочко нас запад взял, и тогда вдруг, наконец, это со скрипом заработало. Сколько было говорено о том, что не надо крупным чиновникам иметь счета и собственность за рубежом, не надо офшорами баловаться, надо вкладывать в Россию деньги, а не развивать американскую промышленность? Когда это было сказано? Тоже больше десяти лет назад. Спохватились, когда стало понятно, что через эти счета, через эту собственность нашу элиту взяли за мошонку, когда это стало прямой угрозой для безопасности и суверенитета страны.
— Но дадут ли они плоды, эти движения, как вы думаете?
— Дадут, если деньги, которые вынуты из наших недр, будут вкладывать в нашу страну , в нашу социалку, а не в семизвездные турецкие отели. Почему-то, когда их вкладывают в Америку, это дает плоды, а у нас, значит, не будет давать?
— Так рубль крепчает, а доллар, наоборот, и многие экономисты уверяют, что это для нашей экономики плохо.
— Я не экономист и не могу судить об экономических тонкостях, но совершенно очевидно даже гуманитарию: если миллиардами отсюда вывозят деньги, которые заработаны здесь, ничего хорошего в этом нет.
От разрушения нас спас Крым
— Юрий, вы сказали, что писали роман о любви, а оказалось, о перестройке…
— Нет, это и о любви, конечно, и о перестройке, и о нашем времени. Герой, наш современник, вспоминает юность. Перед читателем проходит вся эта эпоха – от конца 70-х до сегодняшнего дня. Я хотел показать, что все те противоречия, которые сейчас есть в нашем обществе, произрастают из тех лет.
— Теперь понятно: перестройку вы утопили в любви…
— Художник отражает жизнь неразделенную. Не понимаю, что такое политический писатель, что такое эротический писатель? В жизни все соединено. Конечно, роман надо прочитать, его бессмысленно пересказывать… Со стороны глядя на написанную вещь, вижу, что мне удалось показать самые разные слои тогдашнего общества. Герой у меня из простых, тогда говорили. Героиня из семьи околохудожественной советской интеллигенции. Много разных типов журналистов…
— А интересно посмотреть, как видит наш цех представитель писательского цеха…
— Тут я похож на двуликого Януса, с одной стороны, я, конечно, писатель, прежде всего, но много лет я отдал и журналистике. У меня есть кое-какие наблюдения над журналистским сообществом.
— Не очень страшные?
— Не страшней, чем в Большом театре… К сожалению или к счастью, люди везде подвержены примерно одним и тем же и порокам, и добродетелям. Все дело в дозировке, в соотношении… К журналистике это относится в полной мере. Журналист сам не замечает, как, как из человека, отвечающего за правду, превращаешься в человека, который откровенно врет.
— Кажется, этот посыл особенно актуален сегодня.
— Конечно.
— Каким образом это стыкуется со свободой слова?
— Мой опыт главного редактора говорит: самые серьезные ограничения сегодня журналист терпит не от государственной власти, от той политической тусовки, к которой принадлежит, от корпорации, которая ему платит. Кстати, у меня подробно в романе описаны цензурные отношения советских времен: даже есть эпизод, когда герой приходит к уполномоченному Главлита, помните таки? И видно, что сейчас корпоративный диктат и установки журналиста гораздо жестче ограничивают в самовыражении. Если газета принадлежит корпорации, которая занимается выкачиванием нефти из наших недр и перекачиванием денег за границу, журналист этого издания никогда спросит: а хорошо ли это? Либералу не придет в голову, например, хвалить книги патриота. А патриот вряд ли объективно оценит книгу писателя-либерала. И этот диктат гораздо сильнее государственного. В советские времена признаком профессионализма –было умение обмануть цензуру, обойти главного редактора и сказать то, что они не хотят слышать. А главный редактор, которого ты обошел и которому за это шею не намылили, он потом тебе говорил: молодец! Потому что сам мечтал о том же. Это был заговор мечтателей, рыцарей свободы слова против реальности. Сейчас ситуация иная: такого понятия как правда вообще не стало. У либералов одна правда, у патриотов другая, у сырьевиков – третья, у оборонщиков – четвертая, у бюджетников – пятая…. Раньше если журналист к получал партийный выговор за крамолу, он становился тайным героем в своей профессии. Ему помогали. Жданов тайком передал продовольственные карточки Зощенко и Ахматовой, которых сам же и разнес. А сейчас, если ты нарушил корпоративную или тусовочную установку, тебя вышвыривают из профессии навек. Ты никому не нужен…
— По-вашему получается, что тогда было больше свободы у журналиста, чем сегодня?
— Внутренней, безусловно, больше… Тогда профессиональная задача была – сквозь препоны и рогатки донести до читателя свое представление о правде. А сейчас доносят просто информацию, соответствующую установкам корпорации, тусовки, оппозиции, вспоенной капитолийской волчицей
— Больше как раз слышится обвинений в том, что у нас сейчас превалируют вседозволенность, эпатаж, какие-то выплески журналистские…
— Это разные вещи — эпатаж и стремление разобраться в тайных пружинах происходящего или произошедшего. Вот пример. Беседует Познер с митрополитом Илларионом. Зашла речь о жертвах 30-х. И начали они друг другу, как в пинг-понг, перебрасывать разные хулы в адрес Сталина. И тиран он, и кровопийца, и т.д. Они, кроме Сталина никого не знают? Они не знают, кто тогда был начальником ОГПУ, НКВД? Кто принимал политические решения вместе со Сталиным? Кто был начальниками лагерей? Не знают, что система ГУЛАГа сложилась задолго до того, как Сталин пришел к власти? А в антирусском погроме 20-х кто виноват? Они таких фамилий, как Троцкий, Зиновьев, Ягода, не знают? Знают. Но если называть эти фамилии, все оказывается сложней, а ниточки тянутся не туда, куда хочется…
— Вы упрекаете в одномерной оценке событий?
— Конечно. Если называть другие имена, то вдруг выясняется, организаторами и активными участниками той кровавой вакханалии были иногда дедушки или бабушки наших нынешних либералов… И получается, именем Сталина они отводят вину от своего клана, а значит, от себя. Я однажды спросил Сванидзе спросил: как вы относитесь к старому коммунисту по фамилии Сванидзе, который написал донос, запустивший кремлевское дело и большой террор? Он на меня посмотрел, как на человека, сквернословящего при дамах. Одно дело ругать Сталина, как персонифицированное зло, другое дело объяснить, почему твой родственник был мерзавцем.
— Согласно теории, революционная ситуация базируется на экономических причинах, следствие которых – недовольство властью. Вот сейчас возникли экономические причины – кризис, помноженный на санкции, привел к тому, что народные массы стали беднее. Но, вопреки той логике, рейтинг власти растет. Чем это объяснить?
— А почему я должен хуже относиться к власти, которая, например, вернула России ее исконные территории? Почему этого не сделали либералы, когда они были у руля? Мне всегда хочется спросить: ребята, вот вы такие умные, что ж не подняли вопрос про Крым, когда сидели в Беловежской пуще? Вот я служил в Германии, наша часть стояла прямо на краю Гамбургского транзитного шоссе, а над ним шел воздушный коридор, по которому беспрепятственно из ФРГ в западный Берлин летели самолеты. Проигравшая Германия получила этот коридор по договору. А мы в Калининград коридор не оговорили. Почему? Что ж это за государственные мужи? Кто бы отказал в таком транзитном коридоре? Белоруссия? Литва? Никогда, они ждали, когда у них про Клайпеду спросят. Ни о чем не спросили. Теперь, когда наконец-то наша власть стала задумываться об утраченном, почему должно это раздражать? Потому что представителям креативного класса придется менять машину не каждый год, а раз в два-три? Перебьются.
— То есть, вот это главный критерий, который…
— Это не главный критерий. Это один из критериев.
— Но один из решающих, да?
— В какой-то мере. Если бы Крым не стал, как и положено, российским, там бы сейчас уже была американская база. Нам пришлось бы бросать гигантские деньги, чтобы как-то защититься. Уровень жизни просто рухнул бы. Или мы сжались бы до размеров Московского княжества. Вы хотите этого? Разве после развала Союза стали жить лучше? Я не хочу.
— Ну, вы резки в оценках…
— Я же не атташе по культуре. Думаю, и роман мой вызовет скандал. Я пишу о том, что обычно замалчивается.
А Украина повторяет наш путь?
— Сейчас все чаще приходится слышать, что вот то, что переживает сейчас Украина, мы уже прошли в начале 90-х…
— Нет, это не так. В начале 90-х в России к власти пришли люди, настроенные абсолютно антинационально, антипатриотически. Вспомните Бурбулиса! Я -то хорошо помню. В декабре 1993 года «Комсомольская правда» напечатала мою статью «Россия накануне патриотического бума». Смелое решение. Ведь тогда слово «патриот» было практически запрещено после расстрела Белого дома. Мне звонили и говорили: ты что, с ума сошел, какой бум, все, с патриотизмом покончено, у власти транс-космополиты, которые сдают интересы государства как пустые бутылки, по гривеннику штука.
— Кстати, тогда вообще была в ходу фраза «Все 70 лет у нас было плохо…». Каждый материал в газете начинался этими словами. Какой уж там патриотизм?
— Вот именно. А на Украине сейчас пришли к власти ультра-националисты. Представьте себе, что начнется в России, если завтра наша власть скажет: никаких вам автономий, никаких языков, кроме русского. Страна развалится.
— Но результат-то похожий получается. У нас в 90-х годах распродавали страну, сейчас примерно то же самое происходит и на Украине.
— Распродавали. Но режимы по идеологической направленности абсолютно разные. Россия уцелела, так как преодолела, с одной стороны, олигархический космополитизм (не полностью!), с другой стороны, не впала в ультра-национализм, так и не озаботившись, увы, русским вопросом. А Украина впала в галицийское неистовство. Думали разве офицеры Австрийского генштаба, придумывая концепцию «украинства», что вызовут к жизни такие химеры? Я надеюсь, на Украине рано или поздно придут к власти люди, которые понимают, что нельзя всех сделать галичанами. Так не бывает. Но к тому времени Украина значительно уменьшится. Лет через 20, когда страсти усядутся, и Украина сожмется до размеров, в каких пришла в щедрый Советский Союз, получив Крым, Львов, Донбасс, Харьков, там будут горевать и сокрушаться. «Какими мы были идиотами! Нам подарили то, за что другие народы сражаются веками, а мы из-за какой-то хуторской спеси все потеряли». Я не геополитик, это мой гуманитарный прогноз.
— Будем надеяться, что какой-нибудь украинский писатель, может, Анатолий Шарий, напишет примерно такой же роман о своих переменах…Одной из причин разрушения СССР многие политологи считают то обстоятельство, что экономику СССР, прежде всего, подкосила гонка вооружений. Вам не кажется, что появились симптомы возвращения этой гонки?
— Гонка вооружений — это неизбежное зло. Пока существует угроза войны, любое государство, которое хочет сохранить суверенитет, должно держать порох сухим. Николай Второй, прекраснодушный наш император, в свое время предложил всеобщее разоружение. Кстати, малоизвестный факт, но именно он лет за десять до первой мировой войны высказался в этом духе. Его подняли на смех, на том все закончилось, потом сдали большевикам. Разумно выстроенный ВПК может вытянуть всю экономику. Я не специалист, но в 90-е годы у нас вообще не было гонки вооружений, мы ничего не тратили на ВПК, только крейсера на иголки резали. И что – разбогатели? Армия голодала. Я жил в 90-е на Хорошевке. Рядом стояла воинская часть, где, кстати, я был в «карантине», когда сам призвался в 76-ом. Так вот, пока идешь в магазин, обязательно 2-3 солдатика подойдут и попросят на хлеб. И я, как автор повести «100 дней до приказа», чувствуя свою вину, всегда им давал деньги. У меня это даже описано в романе «Замыслил я побег». И что? Вообще исключив расходы на оборону, мы в 90-е годы стали жить лучше? Нищими стали все, кроме нескольких десятков прохиндеев, которые почему-то величают «олигархами».
— Юрий, а про нынешнее наше время не хотите написать роман?
— Так ведь роман «Любовь в эпоху перемен» и о нашем времени. Газетой «Мир и мы», где разворачивается сюжет, владеет олигарх по фамилии Корчмарик, а по прозвищу «Кошмпарик». Чувствую, что некоторые параллели не понравятся… Вы думаете, я романтизирую нынешнюю жизнь? Нет. Очень многое в сегодняшней жизни не устраивает. Но по крайней мере мы вернули суверенитет, сами стали определять, как нам жить дальше. Я не хочу жить в такой России, жизнь которой определяют какие-то «псаки» за океаном. Не хочу!
— То есть, это все-таки роман о двух эпохах перемен?
— Конечно. Я заставляю читателя сравнивать. Иногда эти сравнения в пользу того времени. Иногда в пользу этого. Но роман не трактат, где в правый столбик пишем плюсы социализма, в левый – капитализма, а внизу сухой остаток. Нет, проза дает более сложную картину мира.
— А человек сам лучше стал или хуже?
— Человек со времен Библии, глиняных табличек Ашурбаннипала и папирусов один и тот же. Он не хуже и не лучше. Просто жизнь может обострять в нем отрицательные черты, а может обострять, как было в годы Великой Отечественной войны, лучшие качества. Сейчас, я думаю, ситуация получше. 90-е годы многому научили…
Не хочу туда, где следы «Тангейзера»…
— Юрий, хотели бы вы снова вернуться назад? Что бы вы сказали людям того времени, чтобы они сделали все по-другому?
— У меня было такое раннее стихотворение с эпиграфом из Тарковского: «Как я хотел вернуться в «довойны» – предупредить, кого убить должны». В общем, мой лирический герой пытается открыть людям глаза 21 июня 41-го, а ему отвечают: «Мы закидаем шапками фашистов, не дав границу даже перейти». Заканчивается вещь так:
А я про двадцать миллионов шапок,
Про то, что завтра грянет, промолчу.
Я так скажу: «Фашист кичлив, но шаток.
Одна забава русскому плечу!»
Историческое знание не спасает от ошибок сегодня. Разве украинцы не знают про «руину»? А поди ж ты…
— Мы думали, вы нам какие-то рецепты все-таки скажете…
— Рецепты выписывают врачи – у них есть две печати — круглая личная и треугольная. Вы идете с этим рецептом в аптеку, покупаете лекарство, допустим, от головной боли, а у вас высыпает роскошная сыпь по всему телу…
— Получается, что вы просто констататор, а человечество читает опусы писателей, вроде бы как бы учится, а потом опять наступает на те же самые грабли?
— Романы «Война и мир» и «Преступление и наказание» читали во всем мире. Что, после «Войны и мира» не было войн?
— Две.
— А после «Преступления и наказания» никто старушек за браслетик не убивал? Вот вам и ответ.
— Человечество не меняется.
— Да. Это и хорошо, это и плохо.
***
— А они поженятся? Вот тот парень, журналист, и девушка, которая парня совратила?
— Да, они поженятся. Во многом роман – это история драматической и, в конце концов, трагической их семейной жизни. Там все очень непросто. Там довольно сложная коллизия. Когда описываются отношения между мужчиной и женщиной, важны каждый нюанс, каждая деталь. Меня, конечно, опять обвинят в том, что много эротических сцен…
— А много, да? Вы нам одну почему-то предоставили…
— Ну, хватит… а то меня запишут в «Тангейзеры»…
В общем, надо читать… Роман «Любовь в эпоху перемен» выйдет в двух номерах журнала «Москва» летом этого года и в издательстве АСТ, с которым я уже много лет сотрудничаю.
ЛЮБОВЬ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН
(Отрывок из нового романа Юрия Полякова)
…Темноволосую Марину Ласскую Гена заметил на первой же лекции. У нее было тонкое восточное лицо, гордый нос, резко очерченные губы и большие туманные глаза. А ее фигура ошеломляла избытком женственности, заставляющей мужчин оглядываться и мечтательно цокать языками. Но до четвертого курса они едва здоровались. Девушка явно принадлежала к той части однокурсников, которых теперь назвали бы «мажорами», а тогда именовали «блатняками». Они были веселы, надменны, беззаботны, одеты в недосягаемую «импорть», курили «Мальборо», ну, в крайнем случае «Союз-Аполлон», после каникул возвращались на факультет загорелые и громко вспоминали: кто сколько бутылок «Киндзмараули» выпил на Пицунде и кто сколько телок снял в Ялте. А Гена все каникулы бегал курьером в «Московской правде»: деньги небольшие, но зато заведующий редакцией Миша Лисичевский обещал после университета взять в штат, и, возможно, он сдержал бы слово, но, растратив кассу взаимной помощи, вылетел с работы. Сейчас Миша банкир.
На Гену, ходившего на занятия в единственных застиранных джинсах и свитере домашней вязки, «блатняки» смотрели с сонным недоумением. Наверное, им казалось, что человек, не одетый в настоящие «вранглеры» и замшевую куртку, вообще не имеет право учиться на журналиста. Познакомиться с Мариной поближе было невозможно: после занятий она никогда не задерживалась, быстро выходила за факультетские ворота, поворачивала направо и спускалась в метро. Иногда в начале улицы Герцена ее ждала машина, всегда одна и та же – «семерка» кофейного цвета. Но сквозь затемненные стекла так и не удалось разглядеть, кто ее встречает. А кто девушку встречает, тот и провожает. Потом Марина пропала на два месяца. Говорили: болеет. Вернулась худая, бледная, отрешенная, но уже не убегала после занятий, а, наоборот, могла подолгу сидеть на лавочке у памятника и курить, неподвижно глядя на тлеющую сигарету. Однокурсники и парни с других факультетов к ней давно уже не подкатывали – отшить-то она умела. Одному, самому нахальному, при всех дала в бубен.
Почему Гена решился подойти к ней? Объяснить невозможно. Просто бывают дни сердечной отваги, когда жизнь подвластна желаниям, а судьба кажется пластилином, из которого можно вылепить все, что захочешь. В молодости такие дни не редкость, с возрастом их становится все меньше, а старость – это когда понимаешь: жизнь уже не может измениться, она может только закончиться.
Ласская сидела одна на лавочке и остановившимся взглядом смотрела на огонек сигареты. Гена несколько минут постоял за колонной, собираясь с силами. Наконец, коротко выдохнул, точно хотел выпить водки, подошел к ней и сел рядом. Она чуть отодвинулась, взглянув на однокурсника, словно на совершенного незнакомца.
— Как дела? – хрипло спросил Гена.
— Пока не родила.
Смелков настолько опешил от такого ответа, что покраснел и взмок. Марина это заметила и снисходительно улыбнулась (наверное, от сознания своей власти над начинающими мужчинами), но тут же нахмурилась и снова уставилась на сигарету. Серый столбик пепла был уже почти два сантиметра.
— А-а тебе… — после неловкого молчания начал он.
— Нет, мне не скучно, — не дав договорить, ответила Марина. — Мне никак. Понимаешь? Ни-как.
— Понимаю. Можно куда-нибудь сходить.
— Например?
— Не знаю. Можно — на Глазунова.
— Какого Глазунова? Композитора?
— Нет, художника, — он кивнул на длинную очередь в Манеж, хорошо видную с горки факультетского скверика.
— Разве он художник?
— А кто же?… — снова оторопел Гена.
— Так себе. Ремесленник. – Она отвечала, не сводя глаз с пепла, который стал еще длиннее и все никак не падал.
— А кто же тогда художник?
— Целков, например.
— Целков? – переспросил Смелков и понял, что над ним издеваются.
— Ты не знаешь Целкова? – Марина впервые глянула на однокурсника с интересом.
— Не знаю! – ответил он со злостью и встал, стыдясь пузырей на коленях, какие бывают только у самых дешевых, «паленых» джинсов.
Пепел, наконец, упал на асфальт. Ласская растерла его белоснежной кроссовкой, тряхнула головой, словно приняв важное решение, и сказала:
— Ладно. Пусть будет Глазунов. Пошли, Смелков, уговорил! – оказалось, она знала его фамилию.
Они перебежали на красный свет запруженную машинами мостовую, и Марина повела растерянного Гену не в конец очереди, удавом обвивавшей Манеж, а в самое начало, показала милиционеру какое-то удостоверение, и через несколько минут они стояли перед огромной, во всю стену «Мистерией ХХ века».
— Ну, и как? – с иронией спросила Марина.
— Напоминает «Гернику», — солидно ответил Гена.
— Издательство «Плакат» это напоминает. Пошли лучше в «Космос».
— Но…
— У меня есть